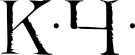Родилась я в Москве, на Старом Арбате, в Карманицком переулке, рядом с метро Смоленская. Там до сих пор есть тот дом и квартира. Причём я родилась даже не в роддоме, а дома — так отец захотел; он в то время был первым Наркомом финансов СССР. И вот в такой замечательной ситуации я появилась на свет, и у меня некоторое время даже была няня.
У моей мамы, Галины Серебряковой, это был второй брак. От первого её брака до сих пор жива дочь, ей сейчас девяносто шесть лет — Зоря Леонидовна Серебрякова (она на самом деле Зоя, но мама у нас любила такие имена; моё — Гелиана — это от имён Григорий и Галина). А во втором браке у мамы долго не было детей. Я была ребёнком совершенно нежданным: родилась, когда они прожили уже девять лет. И досталось мне быть в семье с мамой и с папой всего год и девять месяцев — отец в 1936 году был арестован и объявлен врагом народа. Мама после этого попала в «Кащенко»: у неё было буйное помешательство, с ума сошла от ужаса: «Как это? Нарком и вдруг — предатель!». Потом это прошло.
Мама оказалась женой врага народа, а значит, купленную на её деньги квартиру отняли, и ей велено было убраться в ссылку. Мама выбрала город Семипалатинск, потому что туда был некогда сослан Достоевский. Туда мы и отправились, в Казахстан: мама, бабушка, Зоря (которой было четырнадцать) и я. Бабушка отдала все сбережения на то, чтобы с нами поехал концертный рояль, и он нас там долго кормил. Мама купила деревянный домик «на две половины». В одной — на полторы комнаты, с большими сенями — жили мы, вторая всегда у нас сдавалась. Вскоре маму арестовали без суда и следствия, устроили ужасный обыск: во двор дома даже заехал трактор, откапывать что-нибудь антисоветское. Нашли коробочку с колечками, которую мама спрятала. Мне было три года, и всё, что я запомнила о маме — это то, как я сижу на полу, а передо мной стоит красивая женщина, почему-то в коричневом платье с белым воротником и манжетами.
Осталась я с бабушкой и сестрой. Бабушка моя происходила из семьи польского фабриканта, окончила Варшавскую консерваторию — пианисткой была и знала шесть языков. И увлеклась таким революционером — моим дедом, который хотел осчастливить всё человечество; он и увлёк её за собой. А её отец, то есть мой прадед, открыл дверь и сказал: «Вон отсюда!». Так она оказалась бесприданницей.
В 1937 году, когда нас выслали, бабушке было шестьдесят лет. В то время она заведовала отделом Польши в одном учреждении, работала в красивом доме у метро «Арбатская», бывшем особняке Саввы Морозова. Из партии её исключили, но не репрессировали. Она сказала: «Я уезжаю в ссылку со своими детьми». Мой дед, врач, который её когда-то втянул в революцию, полюбил молодую и ушёл из семьи. Бабушка больше не вышла замуж, я повторила её судьбу и тоже осталась в сорок лет одна; уже сорок шесть лет я — вдова…
В Казахстане я заболела: маленький ребёнок, три годика, было не до меня. Я должна была умереть, уже собирались гроб заказывать. Бабушка пошла по всем врачам в Семипалатинске. Как узнавали, что мы ссыльные, никто не хотел приходить. Только один старичок, ещё дореволюционной школы, пришёл, посмотрел на меня и сказал: «Девочке надо брать грудное молоко в консультации, где женщины сдают лишнее». Начали брать молоко, и я ожила! Я обожала этого врача, постоянно ему рисовала какие-то каракули, вешала на гвоздик и ждала, когда он снова придёт. Потом мы вывезли из Москвы небольшой портрет работы Тропинина и подарили ему за то, что он меня вылечил.
Заниматься мной бабушке и сестре было не сподручно, и меня отправляли в палисадничек около дома. Там я часами сидела и зимой, и летом. И однажды меня украла какая-то женщина. Она спросила: «Хочешь на ёлку?». Я сказала: «А хочу!». Так она меня увела на ёлку; я там веселилась, а бабушка с ума сходила, вызывала милицию. В общем, это был урок на всю жизнь, что ни с кем нельзя никуда уходить. В углу я потом стояла долго.
Был и другой интересный случай, сыгравший в моей судьбе очень большую роль. Бабушка, не знаю из каких соображений, вдруг решила, что в пять лет ребёнку надо зубы лечить, хотя зубы-то были молочные. Привела она меня к врачу, а врач — сердобольная женщина — спрашивет: «А почему нету мамы? Почему нету папы? Почему бабушка привела?». Бабушка молчит: про родителей нельзя говорить. Сказала только: «Я воспитываю». А та в ответ: «Знаете, Вам же тяжело целый день с маленьким ребёнком. Давайте её отдадим в танцевальную школу!». А я была полненькая, с чёрной чёлочкой и очень похожа на маленькую девочку Мамлакат, которую Сталин держал на руках; когда-то такая скульптура даже была. Такой меня и привели в танцевальный кружок при госпитале.
Я была очень музыкальная, два прихлопа, три притопа — и я солистка! Мама моя в 1920-е годы была спецкором в Китае и привезла оттуда маленький китайский костюм. Он уцелел после обысков, был по размеру, так что мне поставили китайский танец. Но началась Финская война, кружок распустили, руководитель ушёл на фронт. А меня оставили, сшили мне теперь костюм матрёшки. Бабушка привозила меня в госпиталь, вокруг сцены собирали раненых и объявляли: «Выступит наша самая маленькая актриса». Я выходила и исполняла «Матрёшку». Раненые плакали — вспоминали своих детей — а потом просили, чтобы я спустилась со сцены. И я шла по рядам, а они давали мне в руки сэкономленный сахар, маленькие такие кусочки — больше ничего у них не было. Так я зарабатывала.
В восемь лет я пошла в школу. Пришла и ахнула: от пола до потолка — портрет Сталина! Такой красавец, в шинели, с орденами! Тут у меня был первый «урок истории». Бабушка учила играть на рояле всех окрестных детей и этим нас кормила. Ходила к нам одна девочка, Искра Ким (наверное, в честь газеты «Искра»), и я прибежала к ней однажды домой за чем-то. Папа её сидел нога на ногу, газету читал; увидел меня, подозвал и говорит: «Фамилия?». Я отвечаю: «Сокольникова» — «Это о твоём отце на сто десятой странице ВКП(б) написано, что он японский и английский шпион, отравлял колодцы, пускал под откос поезда?!». Ужас! Ребёнку такое сказать! Я домой к бабушке: «Какой у меня плохой папа, оказывается!». Бабушка промолчала, только по головке погладила. Потом в школе объявляли о родительском собрании. Я подняла руку и говорю: «У меня нету мамы, папы. Можно, бабушка придёт?». А сама думаю, что я какая-то неправильная. Кто по национальности, вообще не знала, такого не было в то время. Так прошёл мой первый «урок истории».
Когда было мне девять лет, мой преподаватель танцев с фронта прислал завучу письмо в Семипалатинский Дом пионеров: «Найдите Ланочку Сокольникову, из неё выйдет отличная танцовщица!». Я начала ходить в Дом пионеров, танцевать. У меня до сих пор сохранились грамоты советского времени — каждый год на Олимпиадах получала первое место, печатали статьи в газетах с моим портретом. Потом бабушка подучила меня играть на пианино, с чем я пришла в музыкальную школу, сыграла что-то. Меня взяли сразу, и в шестой класс! И опять статья: «Ланочка Сокольникова играла Баха. В зале плакали». У меня всё это хранится — пожелтевшее уже, страшное.
В войну мне очень сильно досталось. Зоря вышла замуж, и мы стали семьёй воюющего. Нам полагалось две кастрюльки с супом, который называли «затирухой». За ним надо было ходить в столовую. «Кто пойдёт? Лана пойдёт» — то есть я. Ещё получали хлеб, чёрный, маленькими кусочками. За белым хлебом надо было в пять утра прийти к магазину, сесть около двери и попасть в десятку первых — тогда можно было получить маленькую белую булочку. Я ходила, сидела у магазина, получала булочку и даже не откусывая несла Зоре — она тогда болела, что-то с лёгкими. Ещё мы посадили огород. В Семипалатинске овощи росли хорошо, а фрукты — нет. Какой-то всегда был салат, бабушка что-то строгала на столе. Кто зайдёт — пускай поест. А грядки тоже поливала я… До сих пор ненавижу огород.
Из Москвы мы привезли с собой красивый шкаф красного дерева с уникальными книгами. Отец, очень образованный человек, знал шесть языков, написал двадцать шесть работ — и у него было шесть книжных шкафов, один из которых приехал с нами. Там было уникальное издание Пушкина, Шекспир, Блок; сроду в Семипалатинске никто такого не видел. Кто будет пыль вытирать? Лана! Я сказала: «У меня никогда не будет библиотеки! У меня будет одна полка хороших книг!». Так что я всю жизнь не люблю и большие библиотеки.
После войны маму выпустили из тюрьмы и тут же снова отправили в ссылку — до самого ХХ съезда её всё время арестовывали и ссылали. Мама тогда родила девочку, а Сталин издал приказ: того, кто в военные годы родит ребёнка в ссылке — отпускать. Неизвестно, кто был отец, то ли вольнохожденец, то ли охранник, но он вскоре погиб на передовой. Мама сказала: «Я всемирно известная писательница, а у меня дочь незаконнорожденная. Кто усыновит мою дочь и посадит десять картошек — станет моим мужем». Дело было в Сыктывкаре, высланных мужчин там жило много, а мама была невозможно красивая! В общем, нашёлся такой Иван Иванович Булгаков, который сказал: «У меня нет семьи, детей. Я усыновлю». Так он усыновил мою сводную сестру, и она фамилию его с тех пор и носит. Она сейчас живёт со мной в Переделкине — нелюдимая, ничего не рассказывает.
Маму я не видела одиннадцать лет. Мне уже тринадцать, я в шестом классе, гадкий такой утёнок, колючий подросток, без родителей; хотя и знаменитость — танцевала, играла, мальчики за мной наряды носили. Училась отлично, при том, что не было даже стола, где уроки учить. Мама же писала письма с просьбой заменить ссылку в Сыктывкар на Семипалатинск, чтобы поехать к своей семье, к нам; в итоге ей разрешили. Кто поедет встречать? Поедет Лана. И вот я отправляюсь за город на вокзал. Была зима, кругом заносы, очень холодно, поезда ходят редко. Как я туда доехала — не знаю. Вид у меня был ужасный: какое-то перешитое бабушкино пальто, шаровары, жуткая шапка; и вся в веснушках, бог знает что!
Сижу я на вокзале сутки, вторые. Наконец, идёт поезд. Я смотрю — во втором вагоне стоит чёрненькая женщина, прижавшись к стеклу, в тамбуре. В ногах у неё — Таня, моя сестра; муж выносит вещи. Я бежала вдоль поезда и кричала: «Мама!». На вокзале всё замолкло, остановилось — так я орала!
Мама меня не узнала и сказала мне всё сразу: и некрасивая, и плохо одета, и такая, и сякая, и почему встречаешь. Автобусов не было, ехали в упряжке, на лошадях. Дома я сразу прибежала к бабушке и говорю: «Мама меня не любит!». Вот такая была встреча через одиннадцать лет.
А дальше началось… Мама спросила бабушку: «А как ты её воспитала?» — «Ну как, она у нас танцовщица и пианистка». Мама и говорит, что она ссыльная, что её в любой момент снова посадят — что и произошло — а дочь ни иголку с ниткой держать, ни комнату побелить, ничего не может. Всё! Из Дома пионеров долой. Никаких танцев, никакого пианино. Вместо этого — кисточка, ведро извёстки и два часа на то, чтобы побелить стенку. Так я научилась белить. Позже, в Ташкенте, работая медсестрой, в перерыве между детьми я за час могла побелить квартиру!
Потом я услышала, как мой отчим Иван Иванович маме сказал: «Давай Лану в ремесленное училище после седьмого класса отдадим на полное гособеспечение, чтобы она тут не торчала». В ремесленное училище тогда отдавали хулиганов, двоечников, а я всё-таки знаменитая танцовщица, отличница! Взяла книжки все свои и побежала на Иртыш топиться, а за мной — мама и бабушка; весь город смотрел. Конечно, я вернулась; под замок сразу закрыли, без воды, без еды. Посидела под замком, вышла и опять убежала из дома, и опять нашли… А потом маму вызвали и сказали: «Галина Иосифовна, Вам придётся расстаться с Семипалатинском и уехать в город Джамбул». Для меня это была вторая ссылка.
Так мама отправилась в Южный Казахстан, сначала одна, оставив нас с бабушкой и Таней. В это время у бабушки нашли гнойный аппендицит, а сестра заболела корью. Бабушку положили на операцию, после которой она совсем недолго прожила, а что делать с сестрой, я не знала. Где-то прочла, что окна надо закрыть красной тряпкой, и вся сыпь коревая выйдет наружу. Я нашла какие-то красные тряпки, закрыла ими всё, и как-то обошлось. Но зато в стенку все время стучали: «Вы когда уедете, сколько можно?». Дом мама уже продала.
Появился Иван Иванович, закупил товарный вагон, куда опять впихнули рояль. И десять дней мы ехали по морозу в этом вагоне в Джамбул, к маме. Буржуйка топилась, сено лежало. Я отморозила ноги — не совсем, но очень больно было.
Приехали в Джамбул — а там весна! Городок маленький, но интересный. Вокруг был большой арык, из него разветвления в каждый двор, по которым вода бежала. Канализации не было, туалет на улице; колонка вместо водопровода. И узбеки задом наперёд на осликах, прямо как из фильма «Маленький мук». А сколько высланных — полный город! По улице шли чеченцы, ингуши, крымские татары, кубанские гречанки-красавицы, поволжские немцы… Много интеллигенции: доктора наук из Москвы, из Ленинграда, из Баку; жена адъютанта маршала Жукова, который победу сделал; сестра Фани Каплан, которая стреляла в Ленина (она продавала там газированную воду); знаменитая Лина Штерн, которая изобрела лекарство и в войну столько спасла раненых, жила там в почётной ссылке за то, что была еврейкой; известный адвокат Игорь Романович Фонштейн. Вот такая публика!
Мама купила в Джамбуле маленький саманный дом. Узбеки делают такие — у них стоит станок, куда набивают глину и кизяк, отходы от коров, от лошадей. Получаются блоки, из которых строят дома с соломенной крышей. Наш был с двумя комнатками, пристройкой и шикарным садом. Какие там были яблоки, груши! Мы ими с маленькой сестрой спасались от голода.
Мама с Таней и Иваном Ивановичем жили в доме, мы с бабушкой — в пристройке. Бабушка спала на маленьком сундучке, а я — на тёплой лежанке у печки, без матраса, на камнях. Болели отмороженные ноги, и по ночам я плакала, а мне стучали в стенку: «Не даёшь спать!».
В пятнадцать лет я вдруг превратилась в красивую девушку. Подходит к маме старый узбек и говорит: «Слушай, у тебя дочь так на узбечку похожа! Давай её отдадим замуж за моего сына». Мама согласилась, приходит домой и говорит: «Всё! Лану отдаём замуж за узбека, она поедет в Ташкент. Будет нам фрукты высылать». Бабушка против: «Девочке испортить жизнь! Она только в седьмом классе. Какое замужество?!». Так меня отстояли. Потом мама хотела отдать меня в концертную бригаду. Снова отстояли. А потом вдруг появился штатский и говорит маме: «Галина Иосифовна, на полчаса». И на восемь лет мы её опять потеряли — пока не умер вождь.
После седьмого класса я поступила в фельдшерскую школу и тогда же получила свой второй «урок истории». Я мыла посуду в арыке, вдруг подходит чеченец маленького роста и говорит: «Девочка, как фамилия?». Думаю: «Господи, опять фамилия!», и отвечаю. «А ты знаешь, что твой отец на деньгах расписывался? Я работал в 1920-е годы в банке в Нальчике и видел, что на деньгах было написано: “Народный Комиссар финансов Григорий Сокольников”».
Старшая моя сестра Зоря всё это время продолжала жить в Семипалатинске, замужем за польским евреем, который бежал от немцев через Львов. У неё родился мальчик — сейчас ему семьдесят один год, и он живёт в Москве. Зоря с мужем преподавали в школе, он — немецкий язык, она — историю. Однажды приходит к нам открытка: «Оба преподавателя арестованы. Дверь в квартиру открыта, приезжайте кто-нибудь». Был 1949 год. А кто поедет? Бабушке за семьдесят, Таня маленькая, мама в тюрьме, муж её, Иван Иванович, тоже посажен. Пришлось мне. А у меня паспорта не было ещё, должны были дать только в августе. Справку взяла, что я студентка второго курса фельдшерской школы. Одета была, как цыганка: какую-то нашла у мамы юбку блестящую, какую-то кофту ужасную, волосы ниже пояса подвязала красным бантом. Так и поехала.
Я сейчас удивляюсь, как мне всё это удалось сделать в пятнадцать лет: всю мебель продала в комиссионку, получила двести рублей — тогда это были большие деньги — а у меня даже сумочки не было, панамку сняла и положила деньги туда. И всё это время за мной шпик ходил. Собрала два мешка вещей и отправила в тюрьму Зоре и её мужу.
В Джамбул возвращалась с тем, что осталось, маленьким узелочком. Сутки сидела на вокзале, ожидая поезда; боялась позвонить кому-то, думала: «Сейчас позвоню и непонятно, куда попаду…». Следователь сказал, что был издан приказ, по которому, если Зоря хоть год получит, следующей иду я как дочь врагов народа. На вторые сутки прибежал солдат срочной службы: «Кому нужно в Джамбул, Фрунзе? У нас на запасном пути вагон, возьмём». Женщина, которая прибилась ко мне в это время, сказала: «Бежим!». Мы побежали и сели в этот вагон, не зная тогда, что было постановление военного времени: за проезд в товарном вагоне полагался год тюрьмы. С нами ехали ещё двое; стали в карты играть, а у меня были швейцарские часы — память об отце — и у меня их за раз выиграли.
Туалета в поезде не было, поэтому, как только он остановился, я сразу спрыгнула, чтобы сходить под вагон. Поворачиваю голову и вижу, что к поезду прицепили ещё два зарешёченных вагона с заключенными, а на приступках — люди с автоматами. Они меня увидели, конечно, и уже через несколько минут были у нас в вагоне. Солдатам говорят: «Вы вообще думайте. Приедем — мы вас на губу посадим. Вы знаете, что нельзя провозить женщин в вагоне. Не только женщин — вообще никого. Военное положение!».
Следующей остановкой был убогий посёлок, Мотай, я его на всю жизнь запомнила: кругом песок и два строения каких-то, слащавый мусульманин продает пирожки. Нас под ружьё выводят в следственный изолятор, приказывают развязать вещи. Развязываю — а они чужие, Зорины. «Ага! Ты воровка, а сама какую-то ксиву показываешь ерундовую, что ты студентка!». И вдруг мне как будто отец с того света помог, знак подал, и я говорю следователю: «Знаете что, а у вас тут есть медицинская сестра или врач?». Он глаза вытаращил: «А зачем тебе?» — «Хочу, чтобы вы проверили, что я честная девушка». Он такого не ожидал; взял телефонную трубку и говорит: «Касса, сейчас к вам придут две женщины. Одной дайте билет до Джамбула, другой до Фрунзе». И нас отпустили.
Приехали в Джамбул и через некоторое время проверили облигации. Выяснилось, что мы выиграли пять тысяч: сошлись и номер, и серия! Я в кассу пошла, там говорят: «У тебя только паспорт получен, шестнадцать лет. Пускай бабушка придёт». Там кто-то кричит: «А бабушка от разрыва сердца умрёт!». Так и вышло: в день, когда нужно было получать деньги, она умерла от разрыва сердца. Я сижу на уроке в фельдшерской школе, бежит уборщица и кричит: «Сокольникова! Домой срочно!». Когда я прибежала, девочка, которая у неё играла на пианино, говорит: «Бабушка была как пушок. Я её на диван положила и всё».
Как хоронить? Нашлись добрые люди; пришли мои студенты из техникума, соседи. Стоим мы на могиле с Таней, крест не на что поставить — я иконку у мамы нашла, положила. Подходит соседка по науськиванию КГБ: «Ты знаешь, Лана, что дом у тебя отберут? Ты кто? Сокольникова. А дом кто покупал? Серебрякова. А потом бабушка переписала, как фамилия? Красуцкая. Уже приходили из Горкомхоза, приценивались к этому дому». Что делать? Таню сдали бы в детдом, а меня — в ссылку. Ещё я боялась, что потом бабушкину могилу не найду. У меня муж перевёз потом её прах сюда, в Переделкино.
Посоветовали мне обратиться к знаменитому адвокату Игорю Романовичу Фонштейну, он жил в почётной ссылке на Садовой улице. Прибегаю — такой маленький дом, зелёная лампа, как показывали в советских фильмах, и полно книг; и лозунг: «Не шарь по полкам жадным взглядом, здесь книжки не даются на дом». Он меня спрашивает: «Ты кто?» — «Лана Сокольникова» — «Ну давай, Лана, рассказывай!». И я начинаю про маму, про бабушку, про то, что дом отберут. Слушал, слушал, потом говорит: «Я тебе всё сделаю». Я знала, что адвокаты дорого берут, а у меня три рубля; а он говорит: «Я тебе всё сделаю бесплатно, только не спрашивай. У тебя глаза твоего отца». Всё сделал! И деньги дал, разделил сумму пополам, мне и Тане: «Не говори, что Зоря есть». Когда мама реабилитировалась и вернулась, она получила две с половиной тысячи за Таню. Я же себе только галоши и туфли купила. Потом явилась с ребёнком Зоря, которой ничего не приписали, стала требовать делиться с ней.
В 1950 году, когда я заканчивала фельдшерскую школу, меня вызвала завуч и говорит: «Ты учишься отлично, но не стремись. Ты одна не комсомолка». Ведь надо было выйти перед всем техникумом и сказать, что мои родители — враги народа, а я отказалась. В общем, я не комсомолка, я дочь врагов народа, у меня маленькая сестра и нечего мне в институт ездить. Я обиделась, конечно, и написала: «Прошу послать меня в стопроцентный сифилис». У нас район был такой со стопроцентным бытовым сифилисом. Завуч меня опять вызывает и говорит: «Что, с ума сошла? Какой тебе район? Вот поедешь в совхоз».
Мне было восемнадцать лет, шёл 1952 год, и я была на должности главврача десятикоечной больницы! Роды принимала, стариков лечила, детей — всех. Ещё и художественную самодеятельность организовала, пианино купили. От кавалеров отбоя не было! А я жила в бараке и маленькую девочку с собой притащила, дочку мамы, которую она отдала мне и сказала: «Воспитывай». Она у меня там в школе училась.
Когда умер вождь всех народов, я вернулась в Джамбул и сразу на санэпидемстанции стала работать медиком и одновременно учиться в вечерней школе. Там у меня была история со студентом, который мне очень нравился. Он сделал потом прекрасную карьеру, стал помощником Президента Узбекистана. И он дал мне тогда понять, что я прокажённая, что на мне никто не женится из-за моей биографии, говорил: «Сокольников и Зуфаров никогда не могут быть вместе». Я тогда очень гордая была и сказала: «Выйду замуж хоть за дворника, только, чтобы не сказал такого». И вышла за соседа. Тот в армии отслужил, татарин, на пять лет меня старше, из отсталой мусульманской семьи. Женщины все по нему с ума сходили. В один момент он пришёл ко мне и сказал: «Я пойду в шестой класс учиться на токаря и буду работать в три смены. Помогите мне учиться». Целый год я ему помогала и влюбилась по уши! Сестра меня привязывала к дереву, чтобы я к нему не выходила: «Ты в какую семью собралась?! Он тебя бить будет! Он будет пить! Ты потом к нам в Москву с ребёнком прибежишь!». Что потом и случилось.
Но тогда я его подготовила — он за семилетку экзамены сдал и собрался в Ташкент поступать в техникум, на полное государственное обеспечение. Мы пошли, подали заявление в ЗАГС, поехали в Ташкент, и его тут же взяли! Накануне первого дня учёбы он прилетел в Джамбул, зашёл ко мне и говорит: «Пошли расписываться». А у них в семье русских не принимали. Он меня привёл, поставил посреди комнаты и сказал: «Вот, прошу любить и жаловать! Это моя жена. Сыграем свадьбу, когда каникулы будут в техникуме». Так я попала в мусульманство: и свадьба была мусульманская, с муллой.
Дочка у меня Альфия Ниязовна, заслуженный учитель русского языка и литературы, тридцать три года в школе. Я ей говорила: «Аля, поменяй ты свое имя! Будь ты Аллой Николаевной!» — «Нет! Ты меня как назвала? Альфия Ниязовна! Всё!».
Двадцать лет я так и жила. Окончила с красным дипломом дошкольное отделение пединститута, после чего поступила в Москве на заочное врачебное, ординатуру окончила. Жили по частным квартирам. Я командовала тогда Отделом детства при Ташкентском райздравотделе, это было очень хорошее место.
Довела и мужа до института. В то время отправляли на два месяца собирать хлопок, он тоже поехал — и спился, как и все. Потом уже я узнала, что до этого его раньше времени из армии уволили за пьянку. Чего я только не делала, ничего не помогало, жить с ним стало невозможно — бывало, с топором за нами бегал, в белой горячке. Решено было поехать к маме, хотя мы с ней не виделись. Она уже реабилитированной жила в Москве с моей младшей сестрой и её мужем.
Побросали вещи в маленький железный сундук, который назвали почему-то контейнером, взяли билет, оформили отпуск, сели в вагон. Всю дорогу я рыдала. На второй полке мужчина спрашивает мою дочку: «Что это твоя мама все плачет и плачет?» — «А нас никто в Москве не ждёт, но мы едем туда: Варшавское шоссе, дом 4, квартира 19». Он пошёл и телеграмму дал.
Встретил нас муж моей младшей сестры: ни он меня не знал, ни я его; но он догадался, что это я, привёл к маме, а она меня не узнала: «Это что за узбечка приехала? Давай, документы показывай!». А у меня чёрные волосы, заколотые по-узбекски, сросшиеся брови, сама худенькая жутко, измученная. Я оба своих диплома показываю, красный и синий, и паспорт. Подарила ей узбекское блюдо — оно у меня осталось после её смерти — и китайскую вазу, которую тогда трудно было достать. Мама и говорит: «Будем решать твою судьбу».
Я не знала, что, оказывается, приезжали к ней из Югославии литераторы в гости, и написали потом в своей газете: «Знаменитая реабилитированная писательница Галина Серебрякова, принимала нас на кухне». Был 1962 год. Её срочно в ЦК, и сразу — трёхкомнатную квартиру на Кутузовском. Я же явилась к ней, ничего не зная, а она заподозрила. «Ты всё нам наврала, ничего он за вами не бегал. У тебя в паспорте что лежит? Квитанция на контейнер». Она подумала, что я узнала про её трёхкомнатную квартиру и решила переехать в Москву со всеми своими шкафами и стать москвичкой. Я говорю: «Да нет! Это другое!» — «Не надо мне говорить! Вот документ — контейнер!». Она сняла огромную брошь, бросила в меня, разбила мне лицо в кровь. Я схватила дочку — и на лестницу; там мы всю ночь и просидели.
Возненавидела я Москву, хотела сразу на целину, меня бы взяли медиком, а дочку — в ясли. Тут выходит её очередной муж — бывший военный — и говорит: «У меня на Патриарших семиметровая комната, я повезу вас туда». Прожили мы там неделю. Коммуналка ужасная! Я же не привыкла так жить — на земле выросла. Что мы ели с дочкой, не знаю. Я боялась заблудиться — только до Маяковского дойду и обратно. Потом звонят: «Мы едем в Переделкино, снимаем там домик в Доме творчества, а ты возвращаешься сюда, на Варшавку»; и я вернулась. Приходит мужчина из Моссовета, говорит: «Вашей маме дали квартиру, эта остаётся. Мы решаем вопрос, кому её оставить». Оказывается, когда мама реабилитировалась, она на меня получила площадь, прописав меня в домовой книге. А я и не знала, скиталась по земляным полам… Он попросил стакан воды, я подхожу к нему со стаканом и вдруг падаю. Он домработницу в сторону отозвал и говорит ей: «Знаете, я видел несчастных женщин, но такую вижу впервые! Я всё сделаю в Моссовете, чтоб ей оставили эту квартиру». Так он и сделал, и я осталась в Москве.
Мама тогда мне сразу заявила: «Материально помогать не буду. Крутись сама, как хочешь». А у меня и у дочки даже на зиму ничего не было. Её надо определять куда-то, мне — работать.
Поступила я на работу в самое тяжёлое детское учреждение: два этажа, двести детей, причём четыре группы, которые ночевали. Дочку устроили в детский сад прямо во дворе дома на Варшавке. Я рыдала, потому что работа была ужасная. Но потом узнали, что у меня образование, ординатура, стали повышать — уже семьдесят учреждений у меня было. Муж приезжал постоянно, стоял на коленях. Никто не представлял, что он пьёт, может ударить. Потом, когда он первый раз пришел пьяный, разбил младшей сестре дверь, они всё поняли, но делать что-то было уже поздно. Еще десять лет я отвоевала с ним. Последние пять лет он пил неочищенный спирт и от этого умер. Утром нашли его в ванной, дверь пришлось ломать. Я так испугалась, что на всю жизнь. Не вышла больше замуж, такая у меня судьба.
А потом Бог послал мне вторую жизнь, и я как будто переродилась. Когда мне было пятьдесят три года, реабилитировали отца. И профессия у меня уже стала другая — я начала писать предисловия к его книгам, выступать в серьёзных вузах. У меня друзья академики.
В Переделкине я навещала маму, когда нужно было чем-то помочь. К ней много, кто приезжал: знаменитые скульпторы Кербель и Вучетич, сотрудники ЦК, переводчики (её книги переведены на все языки мира, даже на китайский и на японский). А меня вызывали, чтобы я сделала узбекский плов. Какой-нибудь переводчик вытаскивал, например, французские духи, которые в шестидесятых и семидесятых годах были редкостью в России, и дарил при мне моей младшей сестре, а меня — словно и нет. Когда нужно было маме с мужем уехать куда-то на две недели и некому было караулить дачу, я жила здесь, в Переделкине.
Меня никто не знал, знали моих сестёр, особенно старшую — она была уже кандидатом исторических наук, и вокруг неё собиралось общество всяких учёных, и она везде говорила, что она дочь Галины Серебряковой. Она маме льстила, а я человек прямой, уважаю простых людей. Для меня единственное в жизни — это моя дочь. А Переделкино я не сильно любила и не хотела жить на этой даче. Маме я говорила: «Давай я тебе напишу отказ от наследства, от всего. Мне ничего здесь не надо!».
Мама перед смертью лежала в Кремлёвской больнице, в отдельной палате. И помощники Брежнева наблюдали за всем происходящим, чтобы не было скандала вокруг Галины Серебряковой. Было дано распоряжение поделить дом в Переделкине между тремя дочерьми, а машину записать на её водителя. Я сказала: «Оставьте мне то, что вам не понравится». И они мне оставили пятьдесят метров вместо ста, но зато с камином — я хотела, чтобы был камин. Во всём посёлке это был первый камин!
Судьба распорядилась так, что уже тридцать лет я здесь живу. И я всё, что осталось от мамы и что касается отца, превратила в маленький музей. У мамы было огромное количество вещей со всего мира; она собирала трубочистов на счастье, и двадцать пять из них у меня до сих пор стоят. У меня мамины портреты работы Жукова, он её рисовал перед смертью; у меня картина пушкиниста Щербакова. Но прерогативу говорить о Галине Серебряковой у меня отобрала Зоря, опередила меня. Поэтому я занялась своим отцом— именно я в основном и восстановила в истории его имя. Когда я о нём говорю, всегда выходит солнце, даже в самый тёмный день.
Когда я только поселилась в Переделкине, никто поначалу не знал, что я дочь Галины Серебряковой. Сплетен о ней я наслушалась кучу. Если я поднимала руку, чтобы поймать машину, — сразу подвозили и говорили о маме: «Ну да, она же агентом КГБ была». Так Солженицын в «Гулаге» написал, хотя это и неправда. Маму использовала ВОХР как красавицу, но она не могла быть агентом КГБ. Я Солженицыну написала в Вермонт письмо через Залыгина: «Александр Исаевич, мамы нету. Остались дети, остались внуки, сейчас уже правнуки есть. Вы же верующий, пожалуйста, не надо этого писать! Вы же не видели документов. Зоря видела протоколы допроса, остальные документы. Нету там этого!». Он обещал убрать, но так ничего и не убрал.
У Галины Серебряковой на даче всегда была открыта дверь. Она спасла многих людей, которые по малолетке попали в тюрьму. Она им квартиры находила, работу. А в последнее время она была в комиссии по помилованию. Она молилась, у неё всегда была Библия, а на шее всегда висела Божья матерь — с ней она и умерла. Её из-за этого в ЦК вызывали, по доносу. Нельзя же быть коммунисткой и верующей, тем более, что она была одной из старейших тогда. Она спросила: «Я кого-нибудь в свою веру привлекла, можете назвать?» — «Нет» — «Ну и до свидания!». Она ничего не боялась!
Когда поляки опубликовали её «Смерч», она не испугалась. Она нас вызвала всех и сказала: «Так, пакуйте вещи. Нас опять вышлют». В России «Смерч» был опубликован после её смерти на деньги Зори. Корякин говорил, что эта книга гораздо сильней написана, чем «Один день Ивана Денисовича» и «Крутой маршрут». И многие, кто читал Галину Серебрякову, мне звонили и говорили: «Я ночь не спал, я в ужасе!». Она там даёт характеристику вождю всех народов, пишет, как она увидела его первый раз — в ложе Большого театра на опере: метр пятьдесят с небольшим, рука прижатая сухая, жёлтое лицо все в оспинах и жёлтые очень страшные глаза. Поэтому Сталин Сокольникова не любил — тот считался кремлёвским красавцем. Но маму он не уничтожал, а двадцать лет держал её. Даже когда распоряжение было в 1943 году отпускать тех, кто родил ребёнка, — не отпустил. Какая-то странная любовь.
А на Переделкинском кладбище из нашей семьи похоронены Галина Серебрякова, моя бабушка, сестра и её муж.